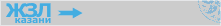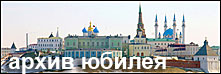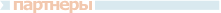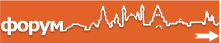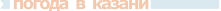| |
| символы Казани |
| Символ тысячелетия |
| Герб Казани. И флаг нам в руки! |
| Знак мэра |
| Кот казанский |
| Современный символ Казани |
все символы Казани  |
| памятники |
| Спасская башня Кремля |
| Башня Сююмбике |
| Канет ли в лету Дом Фукса? |
| Был в Казани памятник… Есть в Казани памятник |
| Памятник русским воинам |
все памятники  |
| церкви и монастыри |
| казанские храмы |
| Самые-самые храмы Казанской епархии |
| Казанский Богородицкий женский монастырь |
| Благовещенский собор |
| Успенский Зилантов монастырь |
все церкви и монастыри  |
| мечети |
| мечети Казани |
| Азимовская мечеть |
| Апанаевская мечеть |
| Мечеть "Булгар" |
| Бурнаевская мечеть |
все мечети  |
| мавзолеи |
| Историческая атрибутация захоронений из мавзолеев Казанского Кремля |
| Мавзолей N1 |
| Мавзолей N2 |
все мавзолеи  |
| известные казанцы |
| писатели и поэты |
| политики |
| общественные деятели |
| ученые |
| деятели искусства |
| спортсмены |
| религиозные деятели |
| колонка авторов |
 Светлана БЕССЧЕТНОВА Светлана БЕССЧЕТНОВА |
| Эрмитаж, не гони лошадей… |
| Культурным событием недели в республике обещала стать открывшаяся в последних числах января в центре «Эрмитаж-Казань» выставка «Полцарства за коня… Лошадь в мировой культуре». 600 экспонатов из 80 фондов Государственного Эрмитажа, выставленные в казанском кремле, сулили поразить воображение провинциалов. И поразили... Я лично впервые в своей жизни оказалась на выставке, где абсолютное большинство экспонатов были не подписаны. Ни времени создания работы, ни страны, ни автора, ни названия – ни-че-го. Догадайся, мол, сама. И это на фоне лекции Михаила Пиотровского, приуроченной к открытию казанской выставки, широко разрекламированных мультимедийных образовательных программ, которыми Эрмитаж собирается одарить казанские школы, а также конного шоу, устроенного в честь третьей казанской выставки из Эрмитажа – не говорю уже о восторженных рецензиях в СМИ. Подробнее... |
 Наталья ТИТОВА Наталья ТИТОВА |
| Ночной дозор. Развивающая игра |
| Окончательно победив в борьбе с вирусом гриппа, уложившим в постели всю мою семью, шла я на работу обновленная и облегченная долгой температурой. Иду, точнее скольжу, жмурясь на весеннем солнышке. Привыкаю к воздуху после домашнего заточения. Надо же, всего пять дней болела, а в мире все изменилось: наступила весна, и все ее приметы, что называется, налицо, - умилялась я, размягченная длительным бездействием. Апофеозом обновления мира стала автобусная остановка, расчищенная по строгому прямоугольному периметру. Что это - побочное действие арбидола или реальность? Подробнее... |
 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
пульс города        |
|||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
пульс города        |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
copyright © 2005  Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения редакции ИД "Парадигма" При полном или частичном использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна Электронное периодическое издание "Интернет-сайт "Лента тысячелетия" (www. 1000kzn.ru) свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-8898 от 23 сентября 2004 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Пишите нам info@ 1000kzn |
Разработка сайта: интернет-агентство RiTE MEDiA Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов |
|